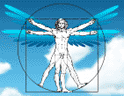

| Главная | Институт | Раcписание | Статьи | Фотогалерея | Разное |
| – Консультации– | – Интенсивные тренинги– | – Продолженные программы– | – Программы для бизнеса– |
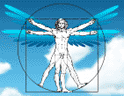 |  | |||||||
| ||||||||
|
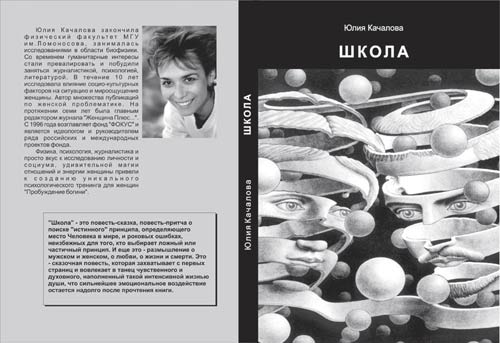 |
Это повесть-притча о поиске "истинного" принципа, определяющего место Человека в мире, и роковых ошибках, неизбежных для того, кто выбирает ложный или частичный принцип. И еще это - размышление о мужском и женском, о любви, о жизни и смерти. |
ПРОЛОГ
Cегодня, дети, наш последний урок, — старая Шенон внимательно вгляделась в лица учеников.
Три пары ясных, живых, доверчивых глаз широко распахнуты и устремлены на нее. Эти трое — последние, кого она выпустит в жизнь: смышленые и славные, как на подбор. Однако в них отсутствует тот внутренний трепет, с которым сама Шенон когда-то внимала своему Учителю. На своем веку она многим давала направление, но никто не пошел по Пути, указанному старой Шенон. Эти трое — ее радость и надежда.
Ана. Айрис. Глен.
— За год, что мы были вместе, вы многому научились: быть внимательными к тому, что происходит вовне и внутри себя, наблюдать различные явления и взаимосвязи между ними, осознавать и использовать свои чувства, развивать интуицию, видеть за частным целое, трансформировать проблему в задачу и находить множество способов для ее решения... Помните, в нашу первую встречу я рассказала вам миф о сотворении мира.
Дети дружно закивали.
Глен: В начале было Ничто — черная безликая Пустота без конца и без края. Но внутри этой Безликости горело Изначальное Пламя. Оно сияло как миллионы Солнц, но для Пустоты было лишь крошечной яркой непокорной точкой, посмевшей бросить вызов ее всесилью.
Айрис: Ничто пыталось пожрать Изначальное Пламя, ибо само его существование превращало Ничто в Нечто — в место, где горело Изначальное Пламя. Ничто не могло смириться с жалкой ролью вместилища, а Нечто не терпело Пустоты, стремилось всю ее заполнить собой. Все упорнее наступало Ничто, и все ярче пылало Изначальное Пламя, напряжение росло, и сколько это длилось не знает никто из живущих, ибо времени тогда еще не существовало...
Ана: В какой-то миг противостояние между Ничто и Нечто достигло апогея. Огненный шар взорвался и разлетелся по всему Ничто бесчисленными осколками. Так возник наш мир, и каждый его кусочек с той поры и до сего дня несет в себе частичку Изначального Пламени.
Дети замолчали. Перед их глазами проходили величественные картины становления мира. Щеки Аны порозовели, ноздри раздувались. Глаза, устремленные в бесконечность, сияли ослепительным огнем, не оставлявшим сомнения в справедливости ее последних слов. Смешливый Айрис, напротив, углубился в себя и словно потух. Печаль проступила на лице мальчугана так явно, точно его взору открылось не начало, а конец мирозданья. Долговязый Глен ссутулился чуть больше обычного и машинально пощипывал кожу на шее. Только это и выдавало его волнение. Со стороны, однако, казалось, что он просто наблюдет за стаей воробьев, которая, перелетая с деревца на деревце, дразнит во дворе рыжую кошку Шэнон. Первой молчание нарушила Ана.
Ана: Мир, возникший из Изначального Пламени, заполнил собой Пустоту. Но напряжение, возникшее в результате противостояния между Ничто и Нечто, не прекратилось, оно перешло в наш мир и стало его частью.
Глен: Не знаю, уместно ли мое сравнение, но если рассматривать позиции Ничто и Нечто с точки зрения военной стратегии, то после Большого взрыва они значительно ослабли у обоих соперников. С одной стороны, Пустоты стало меньше. С другой, Изначальное Пламя, оказалось раздробленным на мириады искр. А, как известно, искру загасить гораздо проще, чем костер.
Айрис: Ана права. Противостояние, напряжение стало частью нашего мира. Но важно ведь не то, что Нечто и Ничто по-прежнему противостоят друг другу. А то, что раздробленные частички Изначального Пламени перестали ощущать свое единство. Вместо того, чтобы укреплять Пламя, они стали пожирать друг друга, сделались орудиями Ничто в борьбе против самих себя.
Старая Шенон почувствовала прилив гордости за своих учеников.
— Миф, который я вам рассказывала, лишь один из множества, существующих на этот счет. Вопрос о начале мира всегда будет открыт. Он из числа тех вопросов, которые, может быть, и вовсе не стоит задавать. Но этот миф мне кажется более красивым и содержательным в сравнении с другими, потому что дает некоторое понимание тех условий, в которых мы существуем. Во-первых, они связаны с изначальным напряжением, запускающим развитие мира. Во-вторых, подчеркивается первичная общность всех форм и явлений, в основе которых лежит Изначальное Пламя. В-третьих, показывается, что утрата понимания или чувствования этой общности приводит к разрушению форм, к Безликости, к победе Ничто.
Дети оживились.
Глен: Правильно ли я понял, что наличие формы препятствует ощущению единства? Можно ли воспринять единство вне формы?
Ана: Есть ли в напряжении, являющемся базовым условием, какой-то смысл? Если ослабнет напряжение, то наступит равновесие, покой?
Айрис: Когда различные формы уничтожают друг друга, побеждает Безликость. А если они будут ощущать свою первичную общность, то что это будет? Как изменится напряжение, направляющее развитие мира?
Шенон усмехнулась.
— Представьте игру в футбол. В чем смысл игры? Для игроков? Для зрителей? Для тех, кто организует матч? Для мяча? Для ворот? Для кого-то есть смысл, для кого-то есть цель, кто-то просто вовлечен в игру без смысла и цели. Но игра тем не менее существует. Существуют правила игры, и в рамках этих правил — мы. И нам важно понять, кто мы в этой игре — организаторы, игроки, зрители, мяч, ворота... Но правила игры мы не определяем — они заданы такие, какие есть. Они могут нравиться, могут казаться несправедливыми, на них можно сетовать, можно не принять их и уйти из игры, можно потратить жизнь, гадая: если бы правила были иные, то что это была бы за игра? Но правила игры от этого не изменятся. Целый год вы учились быть в контакте с собой и окружающим миром, чтобы в дальнейшей жизни вам было проще определить, кто вы есть в рамках той игры, тех правил, которые существуют. Итак, мы постепенно подошли к теме нашего последнего урока, к Главному Закону нашего мира. Называется он Законом Принципа.
— Принцип — это первооткрыватель? — невинно поинтересовался Айрис. Ана хихикнула. Глен нахмурился.
— Принцип — это то, что определяет каждую форму. Название, пожалуй, не совсем удачное. Можно сказать и так, что каждая форма выражает некий Принцип. Эти Принципы развивались вместе с нашим миром. Вначале, после Большого Взрыва, мир представлял из себя страшную мешанину из Безликости и бесформенных искр Изначального Пламени. Постепенно формировались Принципы, и мир обретал некие формы. Задача каждой формы — это обретение Лика через развитие своего Принципа. Эволюция — это очищение Принципа. Попросту говоря, Принцип — это то, что делает березу — Березой, кошку — Кошкой, воробья — Воробьем, а человека — Человеком. Самое сложное, как в ребусе, — это выявление Принципа.
Дети закивали головами. Они поняли. Они любили разгадывать ребусы. И им было ясно, что Кошка отличается и от Воробья, и от Березы. Старая Шенон усмехнулась.
— Отлично! Какой, по-вашему, Принцип выражает Кошка?
Дети закричали хором:
Глен: Чистоплотность!
Ана: Независимость!
Айрис: Игру!
Шенон подняла руку, и дети замолчали.
— Вы наблюдательны. Но Закон заключается в том, что для каждой формы существует только один истинный Принцип. Может быть, наши органы чувств и наш язык просто не приспособлены, чтобы определить Принцип, который выражает Кошка. Но это и не наша задача. Мы должны определить Принцип, который выражает Человек, и только его. Увы, человек хуже всех в природе справляется с этой задачей. Мы можем найти людей, которые по сути похожи на все формы фауны и флоры. Вы ведь никогда не встречали собаку, похожую на акулу. А среди людей таких сколько угодно. Фактически, человек — единственное существо, до сих пор не сумевшее развить свой Принцип. И большинство людей даже не желают его искать. Они живут “как все”, не только не развивая свой принцип, но откровенно от него отрекаясь. Поэтому именно человек и главным образом он служит надежнейшим орудием Безликости в уничтожении себе подобных. Кошка совершенна. Береза совершенна. Не знаю уж как, но они определили свой Принцип и развили его. Человек же, мнящий себя властелином мира, до сих пор не знает, кто он и зачем. Лишь единицы задумываются, но как правило, находят ложные принципы. Ложный принцип воодушевляет вас, но потом разрушает вашу жизнь. А попутно — и чужие жизни. Те, кто ничего не ищут, а просто коптят небо, относительно безвредны. Бойтесь тех, кто развивает ложные принципы. Самые страшные преступления в мире совершались людьми, вдохновленными ложными принципами. По-моему, я сказала вам все, что могла.
Дети казались встревоженными. Шенон стало их жаль, но время ее выходило — дети были почти взрослыми.
— Шенон, — прошептала Ана, — Ты знаешь истинный Принцип?
— Понять Принцип — ваша личная задача. Используйте для ее решения сердце, ум, интуицию — все, что у вас найдется. Не торопитесь, но и не бездействуйте. Вам дан ограниченный срок длинною в жизнь. Больше мне нечего вам сказать. Прощайте!
Шенон повернулась и зашагала прочь. Дети почувствовали смущение от резкости и неожиданности прощания. Они ожидали большей теплоты, в конце концов на протяжении всего времени их пребывания в школе Шенон была не только их наставницей, но и ближайшим другом. По крайней мере, им так казалось... Однако, они стеснялись признаться друг другу в обидном ощущении покинутости, которое возникло у каждого — ведь отныне они стали взрослыми.
Некоторое время все трое молчали. Потом Глен прокашлялся.
— Единственное, что отличает человека от остальных — это разум! Наш инструмент познания мира, позволяющий усовершенствовать реальность в соответствии со своими нуждами и потребностями. Это делает человека подобным Богу.
— Ну, Глен, ты загнул, — фыркнула Ана. — Получается, мир таков как есть, предназначен для удовлетворения нужд и потребностей Бога. А мы его еще немножко подделаем, чтобы он отвечал и нашим скромным запросам. Так что ли?
— Не цепляйся к словам. Я хочу сказать лишь одно: именно разум отличает человека от прочих форм жизни. А все эти разговоры о Принципе — просто мистификация очевидности!
Ана посмотрела на него очень серьезно, по-взрослому. И уже без иронии отчеканила:
— Мне это не представляется столь уж очевидным, Глен. Есть много умников, которые ничего не достигли в жизни, потому что им не хватало характера. Никакие мозги не помогут, если ты — тряпка. Природа руководствуется инстинктами, и только человеку свойственно целеполагание и достижение цели. Сознательное усилие, продиктованное его волей. Воля, полагающая цель и достигающая ее — вот что отличает человека от животных, растений, гор и прочих явлений природы. Ты, согласен, Айрис?
Айрис улыбнулся, но улыбка вышла слабой и виноватой:
— Вы оба правы, друзья. Частично. Только, мне кажется, что вычленяя человека из мира, помещая его где-то над миром — как исследователя или полководца — вы оба допускаете ошибку. Шенон имела виду что-то другое. Я ощущаю это иное, но пока не могу подобрать слов, чтобы передать вам. Может быть, когда-нибудь слова найдутся...
1
Прошло почти тридцать лет. Шенон сгорбилась, ноги, зрение и слух служили ей с большой неохотой. Однако, разум оставался по-прежнему ясным, а в сердце был даже больший покой, чем в прежние годы. Но труды ее остались незавершенными, и эта незавершенность не отпускала ее, не давала ей уйти.
Шэнон часто вспоминались дети. Через ее руки прошел не один десяток учеников, но те, последние, как-то особенно запали в память и сердце.
Глен. Спокойный, рассудительный. С тонкими пальцами, тихим голосом и проницательным умом. Айрис. Крепыш, кипучая натура, энергия плещет через край. Готов лопнуть со смеху от любой шутки. Но иногда, застигнув его врасплох, углубленного в свои мысли, Шенон поражалась недетской печали, проступающей из затаенных родников души. Ана. Гибкая, стройная, казалось, она состоит из мускулов и огня. Пламень ее в любой момент готов был вспыхнуть то гневом, то восторгом, несмотря на все старания Аны втиснуть его в обруч своей воли. “Дочь Пламенного Меча” — прозвали ее Айрис и Глен...
Стояла вторая половина апреля. По ночам еще тянуло холодом, но днем уже припекало вовсю, леса, покрывавшие горы вкруг долины, где стоял домик Шэнон, готовились украсить себя первой листвой, поле покрылось мягкой, нежно зеленой травой, кое-где расцвеченной золотыми головками мать-и-мачехи…
День уже клонился к вечеру, когда Шенон почудился стук в дверь. С тех пор, как закрылась Школа, Шэнон редко навещали гости из внешнего мира. Может быть, ее слух опять насмехается над ней. Но стук повторился, сначала неуверенно, потом более настойчиво, и голос снаружи позвал “Шэнон, Шэнон!”.
Старая наставница вздрогнула от неожиданности, хотя, собственно, что? Именно этого она дожидалась...
Перед ней стояла взрослая женщина, но голос принадлежал ребенку — той девочке, к которой часто возвращались мысли Шенон.
— Шенон! Ах, Шенон! Уж не знала, застану ли тебя живой или буду обращаться к духу. Ах, Шэнон, я помнила тебя все эти годы, не думай, что забыла. Нет! Но как-то не решалась навестить, все откладывала, думала, что сначала надо справиться с задачей, которую ты поставила перед нами. Но… Мы потерпели поражение, Шенон. Ты так в нас верила, а мы...
2
Ах, Шенон, как тяжело! Какая боль! Это правда, боль, которая сродни моей, живет в сердце — не в голове, не в животе — она выползает из сердца, подступает к горлу и схватывает намертво. Не вздохнуть. Тяжесть! Тяжесть, тяжесть... Умер Айрис… Известный детский писатель скоропостижно скончался от разрыва сердца. Почему, Шенон? Это несправедливо! Он был лучшим из нас. И вот. Как все глупо!
Прости. Я расскажу все по-порядку. Глен тоже умер, Шэнон. Да. Он стал преступником, а потом сошел с ума и сам себя убил. Ты, конечно, помнишь Глена, Шэнон? Нашего вундеркинда! Разум — инструмент познания, отличающий человека от прочих форм жизни! Уподобляющий его Богу! Кажется, такие сентенции он излагал, когда мы заканчивали Школу. К счастью, мы с Айрисом не были столь умны. Но Глен успешно развил свой Принцип, стал великим ученым. Его всегда интересовала игра жизни и смерти, Ничто и Нечто. И он создал Нечто. Нечто, превращающее все остальное в Ничто!
После Школы я потеряла Глена из виду. До меня доходили лишь отдаленные слухи, что он стал выдающимся микробиологом, получил какую-то высокую научную степень, довольно рано женился... Потом на долгие годы его след потерялся, но я им не особенно интересовалась. Айрис пытался его отыскать, но Глен, видимо, здорово освоил искусство мимикрии и конспирации.
Лет пять назад моей случайной попутчицей стала женщина, еще нестарая, но какая-то потухшая изнутри. Она была очень суетлива, озабочена, тревожна, ее пальцы все время перебегали от одного предмета к другому, ни на секунду не оставаясь в покое, губы шевелились, левое веко подергивалось... В какой-то миг взгляды наши встретились, и я увидела, что глаза ее мертвы. “Вот, еду дочек навестить, — поспешно сказала женщина, заметив, что я вздрогнула. — Меня зовут Ута”.
Трясущимися руками, она стала рыться в сумочке, пытаясь что-то отыскать в хаосе содержимого, и наконец выудила небольшую фотографию, изображающую семейную идиллию. Я ненавижу, когда меня насильно пытаются приобщить к чужой, совершенно ненужной мне интимности, поэтому лишь мельком глянула на фото. Невольный возглас изумления, и вот — я жадно всматриваюсь в изображение. Но не пара толстых карапузов, не случайная попутчица в облике, гораздо более свежем и живом, привлекли мое внимание. Глен! Повзрослевший, но все такой же — долговязый, сутулящийся, с тонкой, слегка иезуитской улыбочкой. И счастливыми глазами. Кажется, я воскликнула “Глен!”. Женщина съежилась и очень медленно спросила:
— Вы знакомы с моим мужем?
— Мы знали друг друга детьми. Вместе учились в Школе — Глен, Айрис и я. Он никогда Вам не рассказывал?
Я не выпалила сразу же: “Где Глен? Что с ним?”. Что-то подсказывало мне не задавать вопросов, хотя я с трудом сдерживала зуд любопытства.
— В Школе... — повторила она, как эхо. И вдруг откуда-то из живота у нее вырвался жалкий, щенячий всхлип, и она стала быстро оседать. Я схватила ее за плечи, гладила, шептала что-то утешительное, недоумевая, почему известие о том, что муж когда-то учился в Школе, так ее огорчило. А женщина билась в конвульсиях сдерживаемых рыданий, пока они, наконец, не прорвались половодьем слез. Я крепко сжимала ее хрупкие птичьи плечики, а она все не могла остановиться, казалось, в ней накопилось столько слез, что они могут залить наше купе, поезд, всю землю...
Потом она затихла, лишившись сил. Я осторожно уложила ее, прикрыла одеялом, так как по ее телу время от времени пробегала крупная дрожь. Веки Уты были плотно сжаты. В какой-то миг мне показалось, что она перестала дышать, и я испугалась не на шутку.
3
Внезапно она заговорила, глухо, но спокойно, по-прежнему не разжимая век.
— Четыре года назад Глен решил уехать на дальний Север. Я с детьми последовала за ним. Он устроился работать в больницу, единственную на много миль вокруг. Персонала катастрофически не хватало, и Глену приходилось быть и главврачом, и нарядом скорой помощи. К тому же он страстно увлекся охотой, поэтому дома мы его видели редко. Я, главным образом, сидела с детьми, которые плохо переносили суровый северный климат и часто болели. Особенно младшая, которой тогда только исполнилось пять лет. Она была слабенькая и очень крикливая. Наверное поэтому Глен ее и не любил. По крайней мере, мне так казалось. Зато старшая была его любимицей...
Каждый раз, возвращаясь с охоты или другой отлучки, Глен приносил детям какой-нибудь гостинец. Старшая никогда не засыпала, не дождавшись его прихода, и он знал об этом. Но делал вид, будто думает, что дочка спит, и говорил как бы сам себе: “Жаль, что Татусик спит — я ей чего-то вкусненького принес. А может, она не спит?” Тут дочка вскакивала с постели, выбегала на кухню и бросалась к нему на шею. А вот младшую он не любил.
Правда, может, это уже было после его болезни... Он заболел менингитом, и его увезли лечить в город Л. Потом он вернулся, но стал какой-то странный.
Вскоре после его выздоровления неподалеку от нашего дома разбился самолет, и там в течение долгого времени находили и подбирали человеческие останки. Тогда муж ушел в больницу и в течение месяца жил в морге. После этого у него началась мания самоубийства. Он приходил домой, раскладывал на столе скальпели и подробно сам с собой обсуждал детали того, что ему предстояло сделать.
Появились и другие странности. Например, если к его приходу я не успевала накрыть на стол, он хватал кастрюлю с супом и со всей силы грохал ею об стол. Потом брал половник и начинал с нарочитым причмокиванием и свистом хлебать из него. Поев, он снова грохал половником о кастрюлю, а кастрюлей о стол, вставал и, ни слова не говоря, уходил в свою комнату. Дверей в комнатах у нас не было, потому что на кухне топилась печь, и от нее по всему дому шло тепло. Но муж в такие периоды вставлял в свою комнату дверь и вешал на нее амбарный замок. После этого он мог неделями не разговаривать со мной и детьми.
Потом у него наступало просветление, и он валялся у меня в ногах, умоляя простить и не бросать его, потому что без нас он пропадет. Я, конечно, прощала; месяц-другой нашей жизни проходил в какой-то сумасшедшей любви, потом все успокаивалось, а затем у Глена снова начиналось помрачение рассудка.
В один из таких периодов он сделал себе из ружья обрез. Старшая дочка, увидев, что отец отпиливает дуло, прибежала ко мне и закричала, что папа застрелится. Но я в ту пору вконец издергалась и срывала на ней свое отчаянье. Я резко оборвала дочь, чтобы она не болтала глупостей, а та очень серьезно мне ответила, дескать, пусть я не волнуюсь: когда папа застрелится, а мама умрет, она сумеет поднять сестренку, будет ей за маму и за папу.
Тот вечер я помню очень отчетливо. Я уложила детей и что-то жарила. Кухня была заполнена шипящими взрывами шкварок. Полоса света падала из кухни в комнату, и я поглядывала туда изредка. Неожиданно я увидела мужа. Он прошел мимо кухни, наклонился над кроваткой младшей дочери и долго смотрел на нее. Это было необычно, раньше он никогда не задерживался у этой кроватки. Потом он подошел к кровати старшей и сел у изголовья. Я не решалась окликнуть его, все надеялась, что он сейчас войдет ко мне. Рядом с кроватью старшей дочери стояла огромная коробка, где Глен хранил охотничьи ружья. Он что-то достал из ящика и быстро вышел.
Я не услышала из кухни выстрела — меня пронзил крик нашей дочери. Почему-то в тот вечер она не надела ночную рубашку и легла в одной маечке без трусиков. Пытаясь натянуть пониже свою маечку и захлебываясь слезами, она влетела на кухню, крича: “Мама, папа застрелился!” Я схватила ее за локоть и потащила в постель, но дочь вырывалась и все кричала, что папа застрелился. Наконец, она вырвалась и побежала в комнату мужа, а я — за ней. Глен лежал на кровати, его рука бессильно свешивалась, а из груди шла не кровь, а черный дым. Потом началась агония, и тогда хлынула кровь. Это случилось два года назад...
4
Наконец, Ута разжала веки. Ее глаза были полны боли, но они уже не казались мертвыми.
У меня же во время ее рассказа крепло ощущение, что здесь закралась какая-то
ошибка. Ее муж был не тем Гленом. Крайний Север, врач в районной больнице, охота,
психоз, самоубийство — бред какой-то!
— Я знаю, о чем Вы сейчас думаете, — слабо улыбнулась Ута. — У Вас это написано
на лице. «Какое отношение судьба несчастного безумца может иметь к блестящему
интеллектуалу, кото-рого я знала?» Ведь так, Ана?
Я слегка вздрогнула. Она представилась в начале нашего знакомства, но я-то ей
не называла своего имени.
— Я рассказала Вам о последнем периоде его жизни, мне надо было с кем-то поделиться.
Я бесконечно благодарна Вам за доброту и терпение. Вы знаете, Глен был человеком
выдающегося ума, можно сказать гениальным, но слишком уж увлекающимся... После
того, как его работы в области вирусологии получили мировую известность, его
пригласили в один из крупнейших зарубежных научных центров. Ему дали лучшую
лабораторию, оснащенную по последнему слову техники, и целый штат профессионалов
в зеленых халатах, ко-торые помогали ему проверять его гипотезы. За-рабатывал
он более чем достаточно и имел в своем распоряжении все для того, чтобы удовлетворять
свою любознательность. В ту пору я мало его видела, все свое время он проводил
в лаборато-рии. Потом его перевели еще куда-то и еще куда-то. Денег становилось
все больше, а он уходил от меня все дальше, и я была не в силах помешать этому
отдалению.
Раньше мы вместе праздновали каждое его открытие, каждую статью, появлявшуюся
в научных журналах. Потом он перестал публиковаться, перестал рассказывать о
том, чем занимается, объяснял мне, что работы засекречены. Я недоумевала: «Какие
могут быть секреты от меня?» Но он отшучивался: «Военная тайна!» Месяцами я
не видела его вообще и всерьез стала подозревать, что у него появилась другая
женщина. Однажды я не выдержала и в тоне, близком к истерике, потре-бовала правды.
Когда он, наконец, понял суть мо-их подозрений, то сам чуть не впал в истерику.
Тогда-то он и открыл мне, что моя соперница — это новый вирус, созданный им
собственноручно, под названием «бэби-невидимка». «Невидимка»— потому что его
невозможно выявить ни одним из доступных в настоящее время способов. «Бэби-невидимка»
убивает чисто, быстро и без следов. Есть одно досадное обстоятельство: «бэби-невидимка»
очень чувствителен к температурным колебаниям, однако это его свойство используется
для системы защиты, когда требуется остановить эпидемию. У меня тогда глаза
полезли на лоб: «Глен, здоров ли ты?! Ты гордишься тем, что сотворил чудовище,
которое убивает чисто, быст-ро и без следов! Ты понимаешь, что говоришь?!»
Глен пришел в ярость. Я никогда прежде не виде-ла его таким. Он весь побелел,
до костяшек пальцев, мне показалось, что он готов меня ударить. Но он сдержался.
Только сказал ледяным тоном, что не надо судить о науке, если имеешь куриные
мозги. И ушел, хлопнув дверью. После этого разговора я его долго не видела.
Уже тогда я решила забрать детей и вернуться на родину. Я начала потихоньку
собираться, и неожиданно объявился Глен.
Я сообщила ему о своем намерении уехать
холодно и непреклонно, и он, удивительное дело, неожиданно меня поддержал. Сказал,
что тоже скоро возьмет отпуск и присоединится к нам. Вот только закончится эксперимент.
Что за эксперимент, я не стала спрашивать. Вскоре мы уехали. Он перевел на мое
имя крупную сумму денег, и, вернувшись на родину, мы ни в чем не знали нужды.
Глен свалился, как снег на голову, месяца через три и заявил, что с наукой
покончено. «Я уезжаю на Север, тебе с детьми там делать нечего».
«Объясни же,
ради Бога, что случилось», — взмолилась я. «
Моя жизнь кончена», — сказал он
туск-ло и безразлично.
Но я не отставала от него. Я сказала, что никуда он не
поедет один, что мы все равно его найдем, куда бы он ни отправился — на Север,
в Антарктиду или на Марс, что денег у ме-ня хоть отбавляй и я все их потрачу
на его поис-ки. Потому что я его люблю и хочу быть с ним. Точка. И тогда он
разрыдался, как дитя, и из всхлипываний и бессвязных слов я наконец-то узнала,
что произошло.
Один из штаммов «бэби-невидимки» был опробован в маленьком, забытом Богом городке
в одной маленькой, забытой Богом стране. Эксперимент был чистым. За пару дней
— десять тысяч тру-пов . И никто ничего не узнал — системы защиты сработали
наилучшим образом, вирус не распространился за пределы отведенной ему террито-рии.
Ни эта страна, ни городок с его жителями не интересовали остальной большой мир.
Никто не стал ничего выяснять, да и выяснить правду было невозможно. Мало ли
в мире неизвестных болез-ней?!
«Я бы предпочел иметь куриные мозги, чем жить теперь с этим...», — заключил
он свой рассказ. Я твердо решила не оставлять его, хотя и отдавала себе отчет,
что на Севере мне с детьми придется очень нелегко. Но я также понимала, что
отгова-ривать человека, который решил принять добровольную епитимью или пытается
убежать от себя, не имеет смысла. Через несколько недель мы уехали на Север,
где начали совершенно новую, неимоверно тяжелую жизнь. Все силы уходили на
выживание, так мы пытались забыть о прошлом. Но я чувствовала, что вина, которую
невозможно искупить, все время оставалась с ним, и он в ко-нечном итоге не выдержал
ее бремени.
5
А
йрис... Как тяжело произносить его имя и обращаться не к нему. Я не буду описывать
его деяния, Шэнон. В отличие от темной судьбы Глена, биография Айриса хорошо
известна. Он стал детским писателем, писал сказки — они все о любви. Я как-то
спросила его: «Почему ты пишешь только сказки? Почему бы тебе не написать что-нибудь
более серьезное?» Он засмеялся, как обычно: «Сказки — это очень серьезно. С
их помощью проще донести мысль, что мир — не такой, каким кажется...»
Помню его первую сказку, рассказанную в тот день, когда мы впервые увидели друг
друга. «Откуда ты взяла свое имя?» — спросил он меня тогда. Я посмотрела на
него удивленно и уже собиралась что-то ответить, как он вдруг вытянул вперед
руку, делая мне знак молчать, наморщил лоб и заявил: «Я знаю, как все было»
И начал говорить медленно, напевно, расфокусированно глядя в пространство:
«Я — Ана. Зовут меня не так. Имя, данное мне при рождении до отвращения инфантильно,
и даже в его полном звучании отдает привкусом пыльной карамельки. Я ненавижу
это имя сколько себя помню.
С раннего детства я поняла, что это не мое, и стала примерять имена подруг,
как примеряют на себя одежду. Делала это я с величайшей тщательностью, помногу
раз повторяя выбранное имя, вслушиваясь в его звучание. Однако, всякий раз новое
имя требовало каких-то черт, которыми я не обладала, и не отражало того, что
во мне бы-ло. Возможно, вы не поймете всей серьезности моих поисков, но я уже
тогда была убеждена, что имя более требовательно, чем родители и воспи-татели;
оно должно соответствовать мне, а я — ему. Никакой диссонанс тут невозможен:
либо я найду свое истинное имя, либо чуждое мне возь-мет вверх и вылепит меня
по своему слащавому образцу.
Долгое время я искала безуспешно. Имена, которые с легкомысленной доверчивостью
принимали мои подруги — легкие и беззаботные, претенциозные и тяжеловесные,
простенькие и полные неоправданного величия — не были тем единственным, которое
я искала.
Но однажды, когда я играла в группе моих сверстниц, к нам подошла неизвестная
девочка. Я стояла спиной и не видела лица новенькой, а та негромко произнесла:
«Давайте знакомиться, я — Ана»
Словно колокол взорвался в моем мозгу! Я бросилась бежать, оставив в недоумении
подруг; мчалась как воришка, пытающийся укрыть драгоценную находку. Ибо неизвестная,
которую я так и не увидела, принесла в дар мое истинное имя. Я — Ана. Все оказы-вается
было так просто! И конечно, я много раз слышала это имя, но слышала лишь его
уменьшительные или обремененные шлейфом невыговаривыемых отчеств формы, производившие
такое отталкивающее впечатление, что я его отвергала без малейшей пробы. А надо
было лишь сказать «Я — Ана», и сразу стало бы ясно, что это именно так».
Он рассказал мне эту историю, и я была поражена до глубины души, откуда ему
известно, что именно так все и было...
6
Д
ля него все произошло в самый первый день нашего знакомства. Потом, гораздо
позднее, он мне сказал: «Одна из величайших загадок заключается в том, как внезапно
открывается душа и принимает в себя кого-то, ранее неизвестного. Ты показалась
мне такой растерянной, в тот первый день, когда я только тебя увидел. И случайно
столкнувшись взглядом с твоими удивленными глазами, вдруг ощутил, что ты выпала
из всей прочей реальности и каким-то непостижим образом оказалась в храме моей
души».
Но я-то, Шэнон, этого не поняла, так как была близорука, а очки носить
стеснялась. Ах, близорукая Ана...
В наши юные годы были периоды, когда мы почти
не разлучались. Он был моим другом, лучшим другом... Всегда. И ни разу ни жестом,
ни намеком не дал мне понять, что я значу для него что-то большее! Почему? Почему,
черт побери, он безро-потно выслушивал мои откровения, давал советы, как мне
вести себя с моими поклонниками, почему не боролся за меня, а взял и женился,
взвалив себе на плечи ношу безрадостной жизни с нелюбимой женщиной?
Его брак был совсем не таким, как у Глена. Удивительное дело! Женщина может
быть привлекательна своей непредсказуемостью, веселым нравом, мудростью, чувственностью,
энергией, мягкостью, заботливостью, лаской, шармом... Но жена Айриса не обладала
ни одним из этих качеств. Она привязала его своей болезненностью, беспомощностью,
зависимостью, полной неспособностью к самостоятельной жизни. Она вечно чем-нибудь
хворала и изводила его бесконечным нытьем. А он, казалось, совсем не тяготился
этим. Он был готов заключить в объятья всех малых мира сего, всех несчастных
и больных, его любовь — это любовь-каритас, любовь-сострадание. Он обладал способностью
к подлинной любви, столь щедрой, что граничит с расточительством, терпеливой,
внимательной, бесконечно нежной... Дети и звери это всегда чувствовали, бегали
за ним хвостом. А я, знавшая его столько лет, как могла не видеть, что Айрис
был единственным человеком, способным подарить мне любовь, о которой я всегда
мечтала! Когда же я прозрела, когда случилось неизбежное, было безнадежно поздно.
И все же, Шэнон, я не могу, не в состоянии понять, зачем он ждал, пока моя слепота
сама пройдет. На это ожидание ушла вся наша молодость. Зачем?!
Как я ревновала
и злилась на него, Шенон! Всем он был нужен, а я, я тоже ведь была в числе нуждающихся!
Но, увы, не имела льгот по возрасту, состоянию здоровья и матположению. И неизменно
оказывалась в самом хвосте длинной очереди, хотя, знаю, его всегда неудержимо
влекло ко мне. И когда мы все-таки встречались — всегда спонтанно — я неизменно
мучила его вопросом: «Скажи, вот если бы я была уродливой, убогой, нищей, слабоумной,
тогда ты бы позволил себе любить меня?»
И наступило время, когда я получила
ответ.
7
М
еня с детства привлекал спорт. С каким наслаждением я дрессировала свое тело,
заставляла его делать то, что казалось бы лежит за гранью возможного, преодолевала
его косность, его острое сопротивление, заполнявшее болью каждую мышцу, каждое
сухожилие. Я изнуряла себя тренировками и жесточайшей дисциплиной, и вот наступал
момент, когда мой разум, моя воля и мое тело сливались воедино, и я на соревнованиях
показывала лучшие результаты. Неизменно этот момент ускользал от моего сознания,
и журналисты ставили меня в тупик вопросом: «Как Вы это делаете?»
Я твердо верила,
что могу достичь любой цели, которую поставлю перед собой. Я поступила в цирковое
училище. Мой наставник, происходивший из старинной цирковой семьи, внимательно
присматривался ко мне. Вообще циркачи — особая каста, а я была среди них чужой,
без роду-племени, и мало кто из моих прежних и новых знакомых верил, что я смогу
прижиться в этом замкнутом мирке. Но у меня не было и тени сомнения — раз я
решила, значит, быть по сему. В тот период жизни я практически не виделась с
Айрисом. Он был уже женат, и я чувствовала себя глубоко уязвленной по этому
поводу. К тому же у него наступил период творческого подъема, а я была с головой
погружена в тренировки. Потом наставник включил меня в акробатическое трио,
которое составлял он сам и двое его сыновей. Мы много гастролировали по стране,
нередко выезжали за рубеж, составляли и отрабатывали новые номера, и в каждом
новом номере моя роль становилась все более значительной. У меня начался затяжной
и невразумительный роман с обоими сыновьями, не переходивший, впрочем, с моей
стороны за грань малозначащего флирта. Они были неплохие мальчики, честные,
открытые, трудолюбивые, но звезд с неба не хватали и казались мне довольно примитивными.
Особенно их портило соперничество друг с другом, от которого они глупели прямо
на глазах. Естественно, все это сказывалось на нашей работе. Наставник сокрушался,
но никак не мог повлиять на своих отпрысков, передо мной же он к тому времени
стал как-то робеть.
Однажды он спросил: «Чего ты хочешь, Ана?» Я, не задумываясь,
выпалила, что хочу летать под куполом. «Моя бабушка любила ходить по канату»,
— сказал он печально. «Ну и что?», — полюбопытствовала я скорее из вежливости,
нежели из интереса. «Свернула себе шею», — ответил он и отвел глаза. Я не придала
его словам никакого значения, мне не было дела ни до чьей бабушки. Мне хотелось
сольного номера, и я собиралась убедить дирекцию цирка, что это будет нечто
грандиозное. Мне дали разрешение на его подготовку. Я вникала во все детали,
в режиссуру, са-ма подобрала музыку и свет. Дни напролет я тренировалась. И
вот, наконец, генеральная репетиция. Афиши, пахнущие типографской краской, уже
оповещают город о моем выступлении. Я не чувствовала никакого волнения, все
было проверено, все находилось под контролем — музыка, свет, страховка, партнеры,
мое тело, мой разум, моя воля... Точные, отработанные движения, просчитанные
до вздоха, до удара сердца. Но что это? Под самым куполом в моем сознании откуда-то
выплыла фраза: «Моя бабушка любила ходить по канату...». Она была круглой и
тяжелой, эта мысль, она обладала весом штанги, она была лишней, и ее неуместность
разрушила единый поток, в который сплавились мое тело, мой разум и моя воля.
Во мне возник странный дисбаланс, а может, я уже осознала, что страховка недостаточно
жестка. Интуиция, предчувствие неотвратимой катастрофы... Дальше я ничего не
помнила.
8
С
ознание возвращалось медленно, да мне и не хотелось покидать то славное место,
куда унес меня наркоз. Это было теплое пространство без верха и низа, залитое
розовым светом, я плавно парила в нем, как сияющий шарик, вроде мыльного пузыря,
кружилась, кружилась в переливах розового света среди множества других разноцветных,
сверкающих пузырей. Мне было очень хорошо и не хотелось возвращаться в сумрачный
мир, где человек в белом халате, отводя взгляд, сообщит мне о травме позвоночника
и о том, что шансов когда-нибудь встать с одра у меня лишь один из ста. И это
будет некоторым преувеличением, данью че-ловечности, во имя которой он поступится
профессиональной честностью. Все это я откуда-то уже знала.
Постепенно я стала различать запахи. Запахи были приятные, наводившие, скорее,
на мысли об оранжерее, нежели о больнице. С трудом я разлепила веки. Просторная
комната, заполненная сиреневым сумеречным светом и синими ирисами. Все-таки
больничная палата. На тумбочке, на окне, на полу — самые разнообразные вазы
с ирисами. Нет, были еще другие цветы — сирень, гиацинты, колокольчики... Все
— синие. Тела нет.
— Наконец-то проснулась, а я все жду, — знакомый голос звучит совсем рядом.
Я не могу повернуть шею. Ее нет.
— Айрис, я не хочу тебя видеть.
Голос — не мой.
— Всякий раз, глядя в зеркало, я прихожу к тако-му же выводу, — с сожалением
вздохнул Айрис. — Печально, но факт, из нас двоих внешняя привлекательность
целиком досталась тебе. Зато природа наградила меня чарующим голосом, и даже
ты, несмотря на порочную привычку во всем мне перечить, не будешь с этим спорить.
Я еле сдержала улыбку. Что правда, то правда. Айрис не блистал красотой, но
обладал чудесным голосом, и я обожала его слушать. И все же я не позволила себе
улыбнуться.
— Я не хочу тебя слышать.
Кто это сказал? Неужели я? Откуда взяться голосу, если у меня нет шеи, нет голосовых
связок?
— А вот это — явное отступление от правды. Что меня всегда в тебе восхищало,
так это полное отсутствие склонности ко лжи. Даже к самой малюсенькой. Та ложь,
которую ты сейчас произно-сишь, — вопиюща! Ты очень хочешь меня слышать, и даже,
боюсь, хочешь меня видеть!
Его лицо склоняется к моему, к единственному, что у меня осталось, он гладит
мой лоб и щеки, и волосы, и целует, целует, и я снова вспоминаю наши встречи.
Наши встречи... Они были — как природные творения: облака, горы, кромка моря
— случайны по замыслу и безупречны по исполнению. Ему удавалось предвосхищать
едва уловимые контуры моих желаний еще до того, как они успевали оформиться
в слова. И делал он это с удивитель-ной грацией и простотой, по которой всегда
так тосковало мое сердце. Ни единого лишнего слова, ни единого жеста, который
можно было бы изъ-ять, не разрушив магии очарования. Мы сталки-вались случайно,
и все обеты вылетали у нас из головы, и он не владел своими руками, которые
не могли от меня оторваться, не владел своими губами, которые так идеально подходили
к моим, и мы танцевали «грязные танцы», и он кружил ме-ня на руках, кружил и
кружил, и я говорила ему все, что приходило в голову, а он меня внимательно
слушал, очень внимательно, хотя разве можно так внимательно слушать такие пустяки
и глупости. Потом я замолкала... И мы были не в состоянии уснуть, а ночь уже
на исходе, уже утро, и простыни смяты и горячи, а мы все не можем разомкнуть
объятий, и его губы находят мои, растрескавшиеся от поцелуев, но ждущие, жаж-дущие...
Снова и снова...
Проходила вечность, пока мокрые, как рыбы, мы не возвращались в реальность.
Я не могла выдержать этих воспоминаний.
— Уходи! — выкрикнула я и отчаянно зарыдала. Сквозь слезы я бросала ему яростные
обвинения, хохотала, кричала, что теперь ему самое время развестись и жениться
на мне, потому что у его жены какой-то паршивый цистит или что-то в этом роде,
а у меня паралич, и что он дождался момента, когда наконец-то можно заняться
благотворительностью и в отношении меня, и что к черту эту его благотворительность
и пусть сам убирается к черту. Я не могла остановиться, вбежала сестра, но он
жестом отправил ее прочь, и продолжал гладить мои щеки, и лоб и волосы. На-конец,
поток слез и криков иссяк.
— Все будет хорошо, — сказал он так просто и уверенно, что я ему неожиданно
поверила, и на мое истерзанное сердце снизошли мир и покой.
— Хочешь, я расскажу тебе сказку про волшебную страну АНАНЕТ? Тебе понравится,
я уверен!
— Да, — прошептала я.
9
Ч
етыре месяца он почти неотлучно провел возле моей кровати. «Один шанс из ста»,
— пряча глаза, сказал врач, и у меня упало сердце. Но Айрис радостно бросился
трясти ему руку. «Ах, доктор, если бы Вы сказали: один шанс из миллиона, он
все равно был бы наш! А один из ста — это что! Просто — тьфу!»
Он приволок в мою палату компьютер, обложился медицинской литературой, за три
месяца он стал лучшим специалистом по позвоночным травмам. Он связывался со
всеми светилами в области традиционной и нетрадиционной медицины, со всеми известнейшими
мануалами, с их помощью он разработал специальный комплекс упражне-ний, специальный
массаж, заказал специальное оборудование для тренировок. Но главное, он ни минуты
не сомневался, что я выкарабкаюсь, и заражал меня этой уверенностью, жаждой
действовать, бороться, ответить на вызов судьбы. Само его присутствие оказывало
сильнейший целительный эффект, и доктор только разводил руками, повторяя: «Это
— чудо!» Трудно поверить, но эти месяцы неподвижности были счастливейшими в
моей жизни.
Когда он ненадолго отлучался, меня охватывало беспокойство. Один раз в его отсутствие
мне приснился сон: он, его жена и еще какая-то женщина, старшая, наверное, мать
жены. Они были огромного роста и почти божественной красоты, излучали покой
и силу, а я казалась себе рядом с ними маленькой, незначительной, уродливой,
никчемной. Я не понимала, зачем пришла в их дом, как осмелилась сделать это
и все порывалась что-то сказать, оправдаться, но язык меня не слушался, и я
проснулась в слезах.
... Айрис заставлял меня тренироваться. Это было так больно, что у меня темнело
в глазах, но я привыкла дрессировать свое тело, и несмотря на боль, привычное
занятие возвращало мне твердость духа.
— В каждом из нас есть скрытые резервы, они почти неисчерпаемы, — подбадривал
меня Айрис. — А в нас с тобой и подавно. Иначе Шенон не взяла бы нас в ученики.
На ночь он рассказывал мне сказки, и я засыпала, как счастливое дитя...
В эту пору я стала обнаруживать в себе необычные свойства.
Ознакомиться с дальнейшим содержанием вы можете, приобретя книгу в Институте развития личности. © Ю.Качалова. "Школа", М, 2002; 145с..
По вопросам приобретения пишите:
| ipd.jktales.org | Карта | | Открытки |